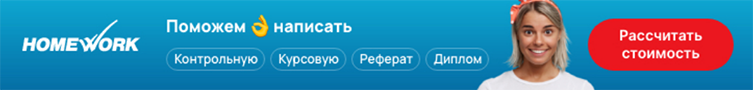Трансвременной континуум в романе Виктора Пелевина "Чапапев и Пустота" (курсовая работа)
- Тип работы: Курсовая работа
- Цена: Бесплатно
Введение
Виктор Олегович Пелевин с момента своего появления в отечественной литературе был назван фигурой загадочной. Определение это в равной степени относилось и относится до сих пор как к творчеству молодого прозаика, так и к самой личности Пелевина. Он до сих пор не дал ни одного интервью в обычном понимании этого слова – исключение составляют только транслиты его форумов в сети Интернет и нечастое участие в телефонных блиц-опросах. Хотя Пелевин известен читающей публике более десяти лет, фотографические изображения его, появлявшиеся в прессе, немногочисленны. Проблемы возникали даже с установлением года рождения Виктора Пелевина – дата варьируется в разных источниках от 1960 до 1970-го годов.
Творчество Пелевина сложно отнести к какой-либо школе. В его произведениях можно найти черты сюрреализма, постмодернизма, символизма, фантастики. Сам он себя относит к школе поп-арта. Объединение опыта множества школ даёт ему право использовать приёмы каждой из них. Пелевин в своих произведениях мастерски играет событиями, местом действия произведения. Часто он приятно запутывает читателя, чтобы потом привести его к неожиданной кульминации и тем самым в полной мере выразить авторскую позицию.
Несмотря на несомненную популярность произведений Виктора Пелевина и интерес к нему издателей как российских, так и зарубежных, однозначного признания в литературных кругах писатель так и не получил.
Более того, как писала Виктория Шохина, говоря о романе «Чапаев и Пустота», наш литературный истеблишмент роман «Чапаев и Пустота» встретил в штыки. Критики не сговаривались, они просто безошибочно точно определили мишень – самое талантливое произведение. И Букеровское жюри, выбирая лучший роман 1996 года, даже не включило «Чапаева и Пустоту» в шорт-лист. Это было смешно, это было грустно, это было симптоматично.
В «Записках «Начальника» премии» (Вопросы литературы. 1998, №3) председатель того жюри Игорь Шайтанов писал: «... «Чапаева» назвали десять номинаторов. Это рекорд нынешнего года, не знаю, претендующий ли на абсолютный». Но члены жюри, несмотря на рекорд, «расстались с романом Виктора Пелевина». Жюри, объяснял И. Шайтанов, пошло наперекор постмодернизму и «крепко «сбитой литературной тусовке», которая «верховодит, утверждая своей коллективной волей новую эстетическую категорию – омерзительного»; «В желании пойти дальше действительности наш постмодернизм умеет лишь удвоить и утроить «свинцовые мерзости». Далее «начальник премии» сказал, что «Пелевин не писатель, а слагатель текстов, речевых, но лишенных языка». И сравнил его с компьютерным вирусом, пожирающим культурную память[12].
Мировоззрение В. Пелевина, основанное на философии дзен-буддизма, мистическом учении Карлоса Кастанеды выражено с удивительной легкостью. Решая «вечные проблемы» человечества автор далёк от скучной назидательности или безжизненной сухости философского трактата. Он погружает нас в свой особый мир, где каждая деталь насыщена смыслом, который невольно входит в наше сознание, заставляя переоценивать нашу собственную систему ценностей. Авангардный писатель использует различные традиционные и нетрадиционные литературные приёмы. Сложное и интересное отношение пространства и времени – это тоже один из «фирменных» приёмов Пелевина. Нам захотелось разобраться в особенностях пространственно-временного континуума писателя, этим и объясняется наш выбор темы.
Рамки нашего исследования мы ограничиваем романом «Чапаев и Пустота
Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» глазами литературной критики
Виктор Пелевин является одним из наиболее ярких и читаемых писателей последнего десятилетия. После окончания Московского энергетического института и Литинститута Пелевин в течение нескольких лет был сотрудником журнала «Hаука и религия», где готовил публикации по восточному мистицизму, философия которого затем отразилась в его творчестве. Первое его опубликованное произведение – сказка «Колдун Игнат и люди» (1989). Пелевин – лауреат многих литературных премий: «Золотой шар» (1990 – «Затворник и Шестипалый»); «Великое Кольцо» (1990 – «Реконструктор»; 1991 – «Принц Госплана»; 1993 – «Бубен верхнего мира»); Малая Букеровская премия (1992 – сборник «Синий фонарь»); «Бронзовая улитка» (1993 – «Омон Ра»); премия «Интерпресскона» (1993 – «Омон Ра»; 1993 – «Принц Госплана»); «Странник» (1995 – эссе «Зомбификация»).
Вместе с тем, Виктор Пелевин принадлежит к числу тех современных авторов, относительно которых среди литературоведов пока не сложилось единого устоявшегося мнения. Творения молодого прозаика, получившего Букеровскую премию уже за первую книгу своих рассказов «Синий фонарь» (1991), были быстро замечены критикой, однако многие специфические черты его творчества в сочетании с экстравагантным поведением сильно подорвали репутацию писателя, затруднив его признание литературоведами.
Среди многочисленных отзывов о книгах писателя, касающихся, в первую очередь, его романов «Чапаев и Пустота», «Generation «П», «Священная книга оборотня», «Жизнь насекомых», повестей «Жёлтая стрела», «Затворник и Шестипалый» «Принц Госплана», рассказа «День бульдозериста», есть немало как обстоятельной и трезвой критики, так и пародийных откликов, а то и вовсе откровенной брани.
Немалое место в массе критических статей о книгах рассматриваемого писателя занимают такие, авторы которых обращают внимание не столько на содержание его произведений, сколько на «литературную стратегию» и «имидж» Пелевина. Часть из них особенно малоинформативна и едва ли вообще может быть отнесена к литературной критике, поскольку вместо литературоведческого анализа содержит выраженные в свободной (иногда с претензией на художественность) форме сугубо частные и никак не аргументированные мнения отдельных лиц об авторе как о человеке.
Другие авторы всё же касаются в своих отзывах собственно творчества писателя, однако, поскольку цель этих критиков обычно состоит в том, чтобы прославить или, чаще, заклеймить Пелевина, его произведения рассматриваются ими поверхностно и достаточно тенденциозно. Яркими примерами такого рода работ может служить известная статья П. Басинского, в которой автор уверяет свои читателей: «Сам по себе Пелевин с грошовым изобретательским талантом, с натужными «придумками»... не стоит и ломаного яйца» [Басинс, [3].
Тем не менее, Пелевин занял вполне достойное место в отечественной литературе. Литераторы-традиционалисты относились к нему нейтрально, как к явлению вполне допустимого параллельного мира с неевклидовой геометрией. Большинство критиков относли Пелевина к постмодернистской школе.
«Формально Пелевин постмодернист, и постмодернист классический, – таково мнение профессора Сергея Корнева, одного из крупнейших российских теоретиков искусства постмодерна, – Не только с точки зрения формы, но и по содержанию – так кажется с первого взгляда… Пока на одном конце континента ведутся споры о том, надолго ли постмодернизм, и придет ли когда-нибудь что-то ему на смену, на другом его конце, зараженном радиоактивными, химическими и идеологическими отходами, он внезапно претерпел чудовищную мутацию. Появился монстр, который парадоксальным образом сочетает в себе все формальные признаки постмодернистской литературной продукции, на сто процентов использует свойственный ей разрушительный потенциал, в котором ничего не осталось от ее расслабляющей скептической философии». – отмечает Корнев в своей статье «Столкновение пустот. Может ли постмодернизм быть русским и классическим?»[8].
Корнев предлагает принципиально новый путь рассмотрения творчества Пелевина. Он называет его «классическим писателем-идеологом» и не простым, а «беспросветным, который каждой своей строчкой настойчиво и откровенно вдалбливает в читательскую голову одну и ту же морально-метафизическую теорию».
Как считает профессор, Пелевин занял в русской литературе вакантную нишу Борхеса, Кортасара и Кастанеды, написав «Чапаева и Пустоту» – первый образчик русской философской прозы, простой для восприятия и обладающей концентрированным содержанием. Фундаментальное отличие Виктора Пелевина от коллег-постмодернистов, по мнению Корнева, заключается в его уверенности и специфической решительности. «Настоящий постмодернист использует форму …стеба…потому что по большому счету сам не уверен – смеяться ли ему над некой идеей или пасть на колени и помолиться. Пелевин же использует ее для откровенной проповеди»[8].
Как говорит Корнев, «программа Пелевина» радикально отличается от обычных постмодернистских решений, он претендует на ту «суверенную внутреннюю территорию» человека, которой для постмодернистов не существует.
«Это собственное внутреннее место Пелевин и дзен-буддисты называют Пустотой. Отождествление с нею…и есть конечная цель». Уникальность пелевинского метода, как утверждает Корнев, в том, что он противостоит не только канонам постмодернизма, но и всей западной философской традиции последних полутора столетий.
Автор «Столкновения пустот» предлагает «удобства ради» именовать «пелевинскую школу» «русским классическим пострефлективным постмодернизмом» (сокращенно РКПП) (пострефлективный – чтобы смягчить отрицательное содержание, нагружающее термин «постмодернизм»). В качестве одного из доказательств легитимности своей теории Корнев приводит цитату из несуществующего учебника: «Зачинателем этой школы (РКПП) был Венедикт Ерофеев, ее наиболее яркие представители в 80-90-е годы прошлого века – Сергей Курехин и Виктор Пелевин. В последнем она обрела свое истинное, неповторимое лицо».
Разработки профессора Корнева относительно РКПП – только одна из теорий о сущности творческого метода Виктора Пелевина. В этой работе они приводятся исключительно по причине своей обоснованности и показательности.
Тем не менее, тенденция причисления Пелевина к постмодернистам на данном этапе изучения его творчества достаточно сильна.
На надежность такого рода классифицирования указывает ряд формальных признаков, в числе которых – обнаружение в текстах Пелевина основных составляющих постмодернистского произведения. Примеры использования этих приемов в изобилии обнаруживаются в произведениях Виктора Пелевина.
«О виртуозной пелевинской игре высокими и низкими смыслами, сюжетами мировой философской мысли и клише обывательско-интеллигентского сознания, персонажами из анекдотов и архетипами мировой культуры, их взаимном перетекании, раздвоении и т. п. говорить не буду – те, кто читал, уже насладились этим, а нечитавшим передать невозможно, – пишет критик Карен Степанян о романе «Чапаев и Пустота» в статье «Реализм как спасение от снов»[11, с. 195].
«Вот отголосок «литературной кадрили» из «Бесов», вот брюсовские реминисценции, вот полупародия на революционный эпос Пастернака, вот оглядка на Борхеса, вот эксплуатация приемов Марио Варгоса Льосы («Тетушка Хулиа и писака») …», – перечисляет далее Александр Архангельский[1, с. 191].
Александр Закуренко в рецензии, озаглавленной «Искомая пустота», писал: «Пелевин использует один из распространенных приемов японской дзен-буддистской поэзии – хонкадори, что означает включение в свой текст чужого текста или определенных фрагментов… Средствами элитарной культуры выражаются реалии массового сознания. Новый прием, пародируя сам себя, тут же превращается в архаический, что служит его повторному пародированию… Если перечислись хотя бы частично набор культурологических реалий романа, получится нео-Даль в транскрипции Эллочки-людоедки, либо словарь той же Эллочки в степени n, где n – количество услышанных книг»[6, с. 95].
А. Закуренко не первый уличает Пелевина в использовании приемов не столько самого постмодернизма, сколько его «праотцов». Особенное внимание в этом вопросе уделяется мотиву «народного сказания» (в данном случае – многочисленных анекдотов про Чапаева, оказавшегося гуру, его верного ординарца Петьку, бывшего на самом деле поэтом-декадентом, и пулеметчицу Анку – прекрасную Анну, распорядительницу глиняного пулемета, обращающего вещи в пустоту). «В раннем буддизме существовал жанр джаттаки – доступного для широких масс предания о предыдущих перерождениях Будды. В советское время ему соответствовал жанр анекдота. Так что роман Пелевина являет собой образец советского богоискательства», – замечает Закуренко.
«Анекдот, оказывающийся притчей – ключ к поэтике романа Пелевина, в котором за байками и приколами проступает Послание, – утверждает другой литературовед, Сергей Кузнецов в рецензии «Василий Иванович Чапаев на пути воина». – Можно назвать это «двойным кодированием»…но лучше увидеть в этом следование буддистской традиции, в которой сожжение мастером статуи Будды служит лучшим объяснением сущности буддизма… И в этой ситуации путь «священной пародии» – едва ли не единственный шанс передать мистическое послание, не опошлив его»[9 с. 250]... Да и в самом тексте «Чапаева и Пустоты» можно найти подтверждение такой точки зрения: «Весь этот мир – это анекдот, который Господь Бог рассказал самому себе. Да и сам Господь Бог – то же самое».
Уже цитировавшийся ранее Сергей Корнев обнаружил еще одну исторически-культурную параллель, вычленил еще один «вечный сюжет» из структуры пелевинского романа: «Пелевин сделал с Чапаевым то же самое, что суфии с Ходжой Насреддином. Он взял комического героя народного фольклора и «нашел» в примитивных и пошловатых анекдотах некую глубинную мистическую суть. Нужна особенная отвага, чтобы вложить свою выстраданную идею в уста откровенно пародийному персонажу…»[8, с. 250].
Излюбленный постмодернистами принцип коллажа, наслоения смысловых планов, обнаруживает в произведениях Виктора Пелевина Александр Генис, посвятивший этому писателю отдельную радиопередачу из цикла бесед о русской литературе. Генис, в частности, отмечает особую дискретность прозы Пелевина, приводящую, как ни парадоксально, не к раздробленности, энтропийности формы, а ее монолитности и строгости: «В поздних фильмах Феллини самое интересное происходит в глубине кадра – действия на переднем и заднем плане развиваются независимо друг от друга. Так, в фильме «Джинджер и Фред» трогательный сюжет разворачивается на фоне специально придуманных режиссером безумных рекламных плакатов, мимо которых, их не замечая, проходят герои.
К такому же приему, требующему от читателя повышенной алертности, прибегает и Виктор Пелевин. Важная странность его прозы заключается в том, что он упрямо вытесняет на повествовательную периферию центральную «идею», концептуальную квинтэссенцию своих сочинений. Обо всем по-настоящему серьезном здесь говорится вскользь. Глубинный смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, якобы невпопад…
Информационный мир у Пелевина устроен таким образом, что чем меньше доверия вызывает источник сообщения, тем оно глубокомысленнее. Объясняется это тем, что вместо обычных причинно-следственных связей тут царит синхронический, как назвал его Юнг, принцип. Согласно ему явления соединены не последовательно, а параллельно. В таком единовременном мире не объяснимые наукой совпадения не случайны, а закономерны.
Пелевин использует синхронический принцип, чтобы истребить случай как класс. В его тексте не остается ничего постороннего»[ 5, с. 232]. Все связано единой идеей.
Роман Пелевина «Чапаев и пустота», несмотря на кажущуюся пестроту событий в сюжете романа, и на наш взгляд, объединяет единая идея…
Понятие пространственно-временного континуума
Прежде чем приступить к анализу романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота», необходимо обратиться к понятию пространства и времени в классической физике. Это обусловлено тем, что в романах Пелевина отношения пространства и времени строятся по своеобразным законам.
Традиция рассмотрения объективных времени и пространства как автономных и независящих друг от друга атрибутов всего сущего родилась в древности. Время изначально символизировало непостоянство и изменчивость. Но изменчивость повторяющуюся, циклическую. Пространство, напротив, всегда мыслилось как нечто устойчивое, неподвластное переменам.
В классической физике время это непрерывная величина, априорная характеристика мира, ничем не определяемая. Привычное для нас время постоянно и неизменно, каждая секунда равна другой секунду, каждая минута состоит из шестидесяти одинаковых секунд, каждый час из шестидесяти одинаковых минут по шестьдесят секунд и так далее. Время, в привычном для нас понимании объективно, его не остановишь, для каждого из нас часы тикают одинаково.
Пространство в физике очень похоже на пространство в литературе. Только в физике это область, где протекают различные физические процессы, а в литературе это место, где происходят какие-либо действия героев. Привычное для нас пространство заключено в три измерения: длина, ширина, высота. Таким образом, мы живём в мире пространства и времени. Три измерения пространства и одно измерение времени окружают и одновременно ограничивают нас.
Оба эти понятие, с точки зрения обычного обывателя объективны. Пространство и время для одного человека будут такими же, как и для другого и это никак не изменить. Фантасты часто придумывают в своих произведениях способы, как это ограничение можно обойти: машина времени, телепортация, другие измерения, параллельное пространство, гиперпространство. Пелевин же обращается напрямую к человеческой сущности, к его снам, когда хочет увести героя в другое пространство и время.
Специальная теория относительности объединила трехмерное пространство и одномерное время в единый четырехмерный пространственно-временной континуум.
В течение ХХ века идея континуальности подтвердила свою продуктивность во многих науках – математике, биологии, физиологии, экономике, генетике, теории организации. Научные поиски ХХ века шли на фоне кардинального пересмотра представлений о пространстве и времени не только в физике, но и самой культуре, и в обществе.
А ее одной из первых теоретических проекций на область гуманитарного знания, по-видимому, можно считать разработку идеи хронотопа М. М. Бахтиным, позволившей создать своеобразную онтологию романа. «В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно зримым, пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» [4 с. 235].
Введение хронотопа позволило М. М. Бахтину реконструировать логику становления романа в зависимости от глубины включенности в него пространства-времени, начиная от авантюрного греческого романа с его крайне абстрактными показателями пространства-времени до хронотопа в романах Ф. Рабле, в которых весьма специфически «все переходит во все». М. М. Бахтин доказал, что именно граница жанра составляет ту границу, внутри которой формируется хронотоп романа как объекта, определив точные жанровые рамки хронотопа в литературе.
Все это, свидетельствует о том, что пространственно-временной континуум все в большей степени осмысливается как важный принцип, условие восхождения любой науки – в том числе социально-гуманитарной – на уровень концептуально-теоретической системы. А потому, по-видимому, правомерно поставить вопрос о возможности его включения в исследование культуры и предположить, что континуум в скрытом виде существует в культуре, и его необходимо вскрыть и прояснить его природу.
Если же достижения современной науки применять к анализу произведений культуры, то, по мнению Барковой Э. В., «пространственно-временной континуум» как понятие и исследовательский принцип философии культуры обладает определенным методологическим потенциалом[2].
И прежде всего, искусство, опередив континуально-научную рефлексию, осуществило эту революцию в художественном освоении, в русле которого, как писал В. В. Иванов, «шли и живопись после Сезанна и кино Бергмана… Как еще во время первой мировой войны писал Бердяев, после Андрея Белого и Пикассо сама история занялась ультраавангардным сочинительством. Искусство становится искореженным отсветом изломанного времени. Пикассо приходит к своей «Гернике», как Шенберг – к «Свидетелю из Варшавы»« [7].
При первом приближении континуум можно определить как такую форму бытия культуры, в которой на основе единства пространства и времени обеспечивается специфика содержания, относительная автономность и самодостаточность культуры. Эта форма содержательна, поскольку в ней происходят постоянные взаимопереходы не только пространства и времени, но и содержания культуры в свойства пространства-времени и обратно. Континуум, следовательно, является одним из вариантов конституирования целостности. Как способ бытия культуры, он самовоспроизводит себя через единство формы и содержания. Эта его особенность позволяет не проясняя конкретику и все многообразие ее проявлений (что требует иных методологических конструктов, имеющих обще – и частнонаучный характер) раскрыть единство становления и устойчивости целостности, в рамках которой развертывается все многообразие ее свойств и отношений[2].
С точки зрения континуума мы и собираемся рассмотреть содержание романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота».
Реальное и нереальное в романе
В романе десять глав: нечетные посвящены событиям 1918 года; четные – 1993-го-1994-го. В конце главы 9 два мира начинают совмещаться. В последней главе они совмещаются полностью – и по улицам Москвы 1990-х едет броневик Чапаева.
Вспомним, как начинается роман: «Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел...» О том, что все уже почти так же было, свидетельствуют и возникающие изредка смутные воспоминания Петра о Петербурге. В предисловии сказано: «воспоминания о жизни в дореволюционном Петербурге» и «описания ряда магических процедур» исключены из рукописи. Эти пустоты и дают о себе знать. («Петербургский период. Условное обозначение по самой устойчивой характеристике бреда. Повторная госпитализация», – сообщает история его болезни.)
Основное место действия – Москва, Тверской бульвар и его окрестности: Никитская улица, где в 1918-м была «Музыкальная табакерка», а в 1990-е – ресторан «Иван Бык. Jhon Bull Pubis International» (неподалеку, кстати, находится сортир из «Девятого сна Веры Павловны»). На пятом этаже дома №8 по Тверскому бульвару расположена квартира фон Эрнена – там когда-то жил сам Пелевин.
С Ярославского вокзала Петр с Чапаевым отправляется на восточный фронт.
На станции Лозовая по Ярославской дороге находится Образцовая психиатрическая больница №17. Там же, как следует из рассказа Анны, происходил решающий бой, в котором Петр отличился, причем благодаря законам симпатической магии – в больнице он этот бой нарисовал. Во время боя Петра контузило – в больнице этому соответствует удар бюстом Аристотеля по голове (Петр, правда, помнит только сон: «... где-то в Петербурге. В каком-то мрачном зале меня бьют по голове бюстом Аристотеля, и каждый раз он рассыпается на части, но потом все происходит снова...»).
Город Алтай-Видянск – место последней дислокации команды Чапаева с рестораном «Сердце Азии» в центре (ср.: книга Н. Рериха «Сердце Азии»; глава «Глубокое сердце Азии» в книге Оссендовского «И люди, и боги, и звери»). Отсюда Котовский отправится в свой Париж. А Чапаев, Анна и Петр – к радужным водам УРАЛа, Условной Реки Абсолютной Любви. («А что такое Радужный поток? – Просто мир вокруг. Видишь цвета – синий, красный, зеленый? Они появляются и исчезают в твоем уме. Каждый из нас – в Радужном потоке... С другой стороны – Радужный поток – просто иллюзия, потому что ты и этот мир – одно и то же». «Священная книга оборотня».)
Есть, кроме того, загробная Валгалла, по которой Петра водит Барон Юнгерн. А также набережная возле Белого дома и Останкинская башня из рассказа Просто Марии. И Пушкинская площадь, и Пятихлебный переулок, дом 5 (метро «Нагорная», выход направо) из рассказа Семена Сердюка.
В ткань романа вплетены и галлюцинации пациентов профессора Канашникова. Но по структуре своей они представляют завершенные (даже на графическом уровне, так как в книге они напечатаны особым шрифтом) тексты с интенсивным типом организации художественного пространства и времени, отличающиеся центростремительной собранностью действия, в ходе которого осуществляются испытание, проверка героя с помощью какой-либо одной ситуации.
Казалось бы, в романе есть несколько различных пространственно-временных измерений. Первое – это психиатрическая больница, в которой лежит человек с именем Пётр Пустота, которого лечат от раздвоения личности. Второе – это 1918 год, тот же Пётр Пустота, поэт-декадент, который служит комиссаром в дивизии Чапаева. И третье это виртуальное пространство, в которое погружается Пётр Пустота во время лечебных сеансов в психиатрической больнице. Оно представляет собой сны других больных, с которыми лечится Пустота.
Главный герой переключается из одного в другой на протяжении всего романа. То он становится Петром Пустотой, который лежит в психиатрической больнице, то Петром Пустотой который служит у Чапаева.
Надо сказать, что Чапаев у Пелевина имеет весьма отдаленное отношение к анекдотическому герою гражданской войны. Несмотря на формальные признаки – бурка, шашка, броневик – он вовсе не красный командир, а Учитель, раскрывающий перед своим ординарцем Петром Пустотой («Петькой») истинную природу мира. Успешно пройдя обучение, Петр достигает Внутренней Монголии («она называется так, не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя слово «внутри» здесь совершенно не подходит»). И там, в месте, называемом Кафка-юрт, Пустота пишет роман о пустоте, повествование о пути к сокровенной истине. Эти три пространственно-временных состояния существуют параллельно друг другу, и главный герой может быть одновременно только в одном из них. Отсюда и возникает то, что в романе названо «проблема самоидентификации».
Он сложил руки на груди и указал подбородком на лампу.
– Посмотрите на этот воск, – сказал он. – Проследите за тем, что с ним происходит. Он разогревается на спиртовке, и его капли, приняв причудливые очертания, поднимаются вверх. Поднимаясь, они остывают, чем они выше, тем медленнее их движение. И, наконец, в некой точке они останавливаются и начинают падать туда, откуда перед этим поднялись, часто так и не коснувшись поверхности.
– В этом есть какой-то платоновский трагизм, – сказал я задумчиво.
– Возможно. Но я не об этом. Представьте себе, что застывшие капли, поднимающиеся вверх по лампе, наделены сознанием. В этом случае у них сразу же возникнет проблема самоидентификации.
– Без сомнения. – Здесь-то и начинается самое интересное. Если какой-нибудь из этих комочков воска считает, что он – форма, которую он принял, то он смертен, потому что форма разрушится. Но если он понимает, что он – это воск, то что с ним может случиться?
– Ничего, – ответил я.
– Именно, – сказал Котовский. – Тогда он бессмертен. Но весь фокус в том, что воску очень сложно понять, что он воск. Осознать свою изначальную природу практически невозможно. Как заметить то, что с начала времен было перед самыми глазами? Даже тогда, когда еще не было никаких глаз? Поэтому единственное, что воск замечает, это свою временную форму. И он думает, что он и есть эта форма, понимаете? А форма произвольна – каждый раз она возникает под действием тысяч и тысяч обстоятельств. « [10, с. 210].
Сознание человека Пелевин сравнивает с воском, но сам человек это капля воска определённой формы. То есть когда сознание не будет обращать внимание на форму, а поймёт свою изначальную природу, оно станет вечным, ему будет не страшно изменение или разрушение формы. Проблема самоидентификации встаёт в романе в различных вариантах:
« – Вообще-то, – сказал я, – за такие слова надо было бы дать вам в морду. Но они отчего-то вгоняют меня в меланхолию. На самом деле все было абсолютно иначе. У Анны был день рождения, и мы поехали на пикник. Котовский сразу напился и уснул, а Чапаев стал объяснять Анне, что личность человека похожа на набор платьев, которые по очереди вынимаются из шкафа, и чем менее реален человек на самом деле, тем больше платьев в этом шкафу. Это было его подарком Анне на день рождения – в смысле, не набор платьев, а объяснение. Анна никак не хотела с ним соглашаться. Она пыталась доказать, что все может обстоять так в принципе, но к ней это не относится, потому что она всегда остается собой и не носит никаких масок. Но на все, что она говорила, Чапаев отвечал: «Раз платье. Два платье « и так далее. Понимаете? Потом Анна спросила, кто в таком случае надевает эти платья, и Чапаев ответил, что никого, кто их надевает, не существует. И тут Анна поняла. Она замолчала на несколько секунд, потом кивнула, подняла на него глаза, а Чапаев улыбнулся и сказал: «Привет, Анна! « Это одно из самых дорогих мне воспоминаний… Зачем я вам это рассказываю? « [10, с. 327]
Здесь речь идёт о том же, только капля воска заменяется набором платьев. Человек представляет собой платье с пустотой внутри, которое способно восприниматься другими, а так же самим собой. Он способен менять эти платья, но пустота, которую представляет собственное сознание, не меняется.
Каждый человек есть то, как он себя идентифицирует. Пространство и время создается самим человеком. Когда Петька думает что он больной, он действительно больной и лежит в больнице, когда его сознание придаёт ему форму Петьки 1919 года, он становиться таковым. Заглядывая во сны других пациентов клиники, он считает их сознание своим и принимает их форму. Его сознание является той метафорической каплей воска, которая по очереди принимает форму больного, комиссара.
Можно утверждать, что структура «Чапаева и Пустоты», несмотря на кажущуюся пестроту событий, в основе своей имеет один фабульно-тематический узел: это история пути главного героя по дорогам человеческого сознания к постижению «правды» жизни, которая осмысливается автором как некая пустота. А если же учесть, что, находясь на лечении, Петр во время сеансов групповой терапии отождествляет себя с другими участниками «совместной борьбы за выздоровление», то можно сказать, что галлюцинации реальных сумасшедших – Марии, Сердюка и Володина – становятся фрагментами внутреннего мира Петра Пустоты. А это значит, что все эти истории оказываются сюжетным инвариантом поиска ответа на главный вопрос: что есть мир (и есть ли он вообще) и что в этом мире человеческая личность. Получается, что персонажи романа не только помещены в одну пространственно-временную плоскость бытия, но и связаны единым делом, воплощая тем самым на уровне собственных сюжетов структуру среднего эпического жанра.
Вопрос, которым задается читатель на протяжении всего романа: что первично? Психбольница 1990-х или события 1918 года? Что есть сон/кошмар? Иногда путешествие в прошлое почему-то представляется более вероятным, нежели путешествие в будущее. И легче считать, что сон – 1918 год. Кроме того, пребывание Петра в больнице более мотивировано. Кажется, что именно в его (больном) сознании санитары превращаются в матросов, врач Тимур Тимурович – в Чапаева и т. п. Вот (в главе 5) в комнату Петра входит Котовский, из-под его халата с кистями видны полосатые пижамные штаны. Тут же вспоминаем, как в главе 4 больных одевали в пижамы в горизонтальную полоску, «которые сразу придали происходящему какой-то военно-морской привкус».
Но гадать о том, какая реальность первична, не стоит.
Границы между тем, что мы решим считать реальностью, и тем, что – сном, взаимопроницаемы. И не зря Барон Юнгерн приводит Петра в место, где оба его «навязчивых сна одинаково иллюзорны». Или одинаково реальны. То же, впрочем, нужно сказать и о самом бароне.
Автор разными способами убеждает читателя в многомерности мира, в отсутствии одного объективно существующего пространства и времени, иными словами транс-временного континуума.
Внутренний мир главного героев и реальность
Поскольку, как мы уже сказали, реальность происходящего в романе, можно смело поставить под сомнение, потому что все это – плод сознания Петра Пустоты, то интересно будет обратить внимание, на персонажей романа – персонажей, населяющих сознание главного героя.
Помимо Чапаева, речь о котором пойдет позже, здесь мы видим, казалось бы, реальных исторических лиц, или, точнее, лиц, имеющих реальные исторические прототипы. Прототипы этих персонажей выяснила Виктория Шохина в своей статье «Чапай, его команда и простодушный ученик»[13].
Это прототипы таких действующих лиц романа, как Григорий фон Эрнен, он же товарищ Фанерный – давний друг Петра Пустоты, тоже поэт. В момент их встречи – чекист. Не исключено, впрочем, что просто кошмар героя, один из «темной банды [его] ложных я».
Анна – племянница Чапаева, пулеметчица-льюисистка. Прототипы: Анка-пулеметчица из фильма и анекдотов.
Котовский – кокаинист, уголовник, творец нашей Вселенной. Тоже мистик и буддист, но несколько отмороженный. Прототипы: Григорий Иванович Котовский (1881-1925) – красный командир времен Гражданской войны. Герой фильма «Котовский» (1943; коронная фраза – «Котовский в городе»; (и в романе она звучит не раз) и анекдотов.
Барон Юнгерн, он же Черный Барон – защитник «Внутренней Монголии»; инкарнация бога Войны; командир Особого Отряда Тибетских Казаков; контролирует (вместо скандинавского бога Одина) Валгаллу – небесный чертог для храбрых воинов, павших в бою.
Прототипы:
1) Барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг (р. 1887/8; расстрелян большевиками 15 сентября 1921 года в Новониколаевске; у Пелевина – в Иркутске). Собрал и возглавил Азиатскую кавалерийскую дивизию, в которой были тибетские части. Прогнал из Урги китайцев и вызволил из плена Живого Будду. Монголы чтили барона как бога Войны, нового Чингисхана. И как Махагалу, гневное божество, принявшее обет защищать учение Будды при помощи устрашения, когда сострадание оказывается бессильным;
2) Черный Барон из песни «Белая армия, черный барон...» (См. также: «Балладу о Даурском бароне» А. Несмелова; книгу «И люди, и боги, и звери» Ф. Оссендовского; роман-сценарий Ф. Горенштейна «Под знаком тибетской свастики»; повесть «Самодержец пустыни» Л. Юзефовича);
3) дон Хуан из книг Карлоса Кастанеды;
4) Карл Густав Юнг (1875-1961) – основатель «аналитической психологии». Испытывал большой интерес к загробному миру, разъяснял «Тибетскую книгу мертвых» и т. п. Ввел понятия: «Тень» (совокупность вытесняемых качеств, стремлений, желаний) и «Персона» (образ, который мы представляем миру). Тень менее цивилизована, более примитивна, не связана правилами приличия и т. п.;
4) по мнению В. Штепы, еще один возможный прототип барона – философ и писатель эпохи раннего национал-социализма Эрнст Юнгер (1885-1998): изображая ужасы войны, он в то же время утверждал войну как возможность «глубочайшего жизненного переживания», как «внутренний опыт».
Жербунов и Барболин – красные матросы-балтийцы; они же санитары в Психиатрической больнице №17. Конвой архангелов, провожатые Петра Пустоты по обоим мирам. Прототипы: «Здесь во время октябрьских боев 1917 года при взятии дома градоначальника героически погибли члены Союза рабочей молодежи товарищи Жербунов и Барболин», – сообщает мемориальная доска на доме № 20 по Тверскому бульвару.
Фурманов – комиссар полка ивановских ткачей.
Прототипы:
1) Дмитрий Фурманов (1891-1926) советский писатель, комиссар 25-й дивизии Восточного фронта (командир – Чапаев);
2) Комиссар Федор Клычков из его романа «Чапаев» и из фильма братьев Васильевых.
Тимур Тимурович Канашников – зав. Третьим отделением Психиатрической больницы №17. Пациенты называют его Хозяином. Групповая терапия по профессору Канашникову – турбоюнгианство, легкая пародия на метод Юнга и на турбореализм (литературное направление начала 1990-х, к которому относили и Пелевина).
Просто Мария, Семен Сердюк, Владимир Володин – обитатели палаты номер семь Третьего отделения Психбольницы №17.
Кроме того: комиссар Бабаясин (см. повесть Пелевина «День бульдозериста»); Валерий Брюсов; Алексей Толстой; другие посетители и обслуга «Музыкальной табакерки»; башкир Батый – адъютант и денщик Чапаева; Семен – денщик Пустоты; ивановские ткачи; медсестра; военный психиатр полковник Смирнов; штабс-капитан Жорж Овечкин и его приятель-офицер. А также Ленин, Шварценеггер, фирмач Кавабата, казак Игнат и прочие.
Ну и конечно же, интересны сами по себе – главные герои.
Чапаев. Красный командир, похожий на белого офицера. Мистик, гуру. Маг, адепт. Член ордена Октябрьской Звезды, как и Черный Барон Юнгерн (см.).
Прототипы:
1) Чапаев из книги Фурманова, фильма братьев Васильевых и анекдотов;
2) Георгий Иванович Гурджиев (1877-1949) – эзотерик, гуру, торговец коврами. Ю. Стефанов напоминает: на литографии Владимира Ковенацкого, опубликованной в журнале «Огонек» (1989, №47), Гурджиев изображен в кавалерийских галифе и затрапезной майке;
3) дон Хуан из книг Карлоса Кастанеды.
Пелевинский Чапаев имеет весьма отдаленное отношение к анекдотическому герою. Несмотря на бурку, шашку и броневик он вовсе не красный командир, а Учитель, раскрывающий перед своим ординарцем Петром Пустотой (Петькой) истинную природу мира. Успешно пройдя обучение, Петр достигает Внутренней Монголии («она называется так не потому, что она внутри Монголии. Она внутри того, кто видит пустоту, хотя слово 'внутри' здесь совершенно не подходит»). И там, в месте, называемом Кафка-юрт, Пустота пишет роман о пустоте, повествование о пути к сокровенной истине.
«Чапай и его команда попали на страницы романа прямо из-за кулис Серебряного века с его оккультными забавами, мистикой, магией»
Чапаев необычен, не совпадает с окружающей средой. «Человек, шагавший впереди по коридору, пугал меня. Я не мог понять, кто он», – подобные мысли не раз будут тревожить Петра Пустоту. («Знаете, кто я? – спросил меня сегодня Чапаев... и глаза у него заблестели наивно и таинственно. – Я родился от дочери казанского губернатора и артиста-цыгана», – записывает в дневник удивленный комиссар в романе Фурманова.)
И в самом деле, кто этот человек (да и человек ли?), который называет себя Василием Ивановичем Чапаевым? Более того, добросовестно исполняет роль красного командира – выступает перед ивановскими ткачами на Ярославском вокзале, отправляется на восточный (у Фурманова – Восточный) фронт, командует кавалерийской дивизией и т. п. Но в то же время, как понимает Петр Пустота, стоит на лестнице бытия неизмеримо выше его.
«Чапаев – один из самых глубоких мистиков...» – говорит Анна. Однако Чапаев не только мистик, но и маг с большими возможностями. Его магический инвентарь: шашка (вместо шпаги), с помощью которой Чапаев показывает Петру живого Ленина (похожая шашка и у Барона Юнгерна); маленький бинокль; талисман-пентаграмма – Орден Октябрьской звезды (именно в октябре принц Сиддхартха, «который не мог жить так, как другие», увидел яркую звезду, все понял и стал Буддой); керосиновая лампа (вместо свечи); чернильница (чтобы записывать ход эксперимента – это поручают Петру). Роль обязательного для мага возбуждающего напитка играет самогон. Перед тем как совершить главное магическое действо, Чапаев, как и положено, очищается – в бане.
Ближе к концу романа Чапаев сообщает, что он – аватара будды Анагамы. Будду с таким именем мы не нашли, но зато нашли анагамина. Что означает: «тот, кто не придет», «невозвращающийся» (анагамин, достигший определенной ступени на пути к просветлению, уже не будет перерожден в мире страстей).
Свита Чапая, его, так сказать, команда тоже специальная. Племянница Анна – натуральный суккуб. На вопрос Петра о том, известно ли ей, что такое суккуб, Анна с улыбкой отвечает: «... кажется, так называется демон, который принимает женское обличье, чтобы обольстить спящего мужчину». Но Петр и есть «спящий мужчина». Так что любовь между ним и Анной случается именно так, как только и может случиться, – во сне.
Котовский вроде младшего демона или духа. Помощник, ассистент, послушник. На борту пулеметного ландо, в котором они едут с Анной, нарисован символ Инь и Ян. Анна – Инь, Котовский – Ян. А хулиганская надпись рядом – «Сила ночи, сила – дня одинакова х... ня» – подтверждает их одинаковую духовную сущность.
Башкир по прозвищу Батый оказывается големом.
Главному герою – Петру Пустота. 26 лет. В событиях 1918 года – он поэт из Петербурга, декадент, католик и комиссар Чапаева. В 1990-х – пациент Образцовой психиатрической больницы №17, считающий себя «единственным наследником великих философов прошлого».
Прототипы:
1) Петька, адъютант Василия Чапаева из книги Фурманова, фильма братьев Васильевых и анекдотов;
2) Петр Демьянович Успенский (1878-1947), ученик Георгия Гурджиева.
Роль Петра Пустоты в этой команде – ученик, простодушный и доверчивый.
Дав герою такую фамилию, Пелевин имел в виду тот смысл, который слово это имеет в буддизме и даосизме. «Вы можете подумать, что пустота означает «ничто», однако это не так, – предупреждает Далай Лама XIV. –... умудренное сознание, опирающееся на реальность, понимает, что все существа и явления – умы, тела, дома и тому подобное – не существуют в своей основе. Такова мудрость пустоты».
Достичь пустоты – значит освободить сознание от загрязненностей, от иллюзий, которые принимаешь за истину. И тогда сознание будет готово принять истинную природу вещей и истинную реальность. Петр Пустота: «Поразительно, сколько нового сразу же открывается человеку, стоит только на секунду опустошить заполненное окаменелым хламом сознание!»
Пелевин, как пишет Виктория Шохина, автор романа «будто специально кинул рецензентам сладкую косточку: слово «пустота» обыгрывалось ими с особым наслаждением. И чаще всего в привычном для русского языка отрицательном смысле – как никчемность, ничтожество и т. п. смысл остался бы тем же, а глупых рецензий было бы меньше. Но он предпочел провокацию. И то сказать: многозначно мерцающая пустота в имени куда эффектнее.
Назови Пелевин своего героя, допустим, Шуньятой (санскр. – пустота), смысл остался бы тем же, а глупых рецензий было бы меньше. Но он предпочел провокацию. И то сказать: многозначно мерцающая пустота в имени куда эффектнее[13].
Можно вспомнить и о том, что: о пустоте Пушкина писал Андрей Синявский; О пустоте, как способности вмещать в свою душу происходящее в мире. Такая пустота свойственна поэту вообще, как свойство. Потому и герой романа вмещает в своем сознании огромное количество миров, легко и свободно перемещает себя во времени и пространстве, совершая, между тем путь собственного восхождения к истине.
Следует заметить, что почти во всех произведениях Пелевина проявляется идея получения героями абсолютной свободы и достижения высшего уровня развития своего Эго – этапа, на котором они познают, понимают и выражают себя. В данном случае герой стремится попасть во «внутреннюю Монголию», Нирвану – блаженное состояние, которое достигается после понимания Пустоты.
Эта черта пелевинского творчества наглядно видна в романе «Чапаев и Пустота».
Ведь в конце произведения Петр Пустота осознает «великую истину»: ни Петербурга, ни психиатрической больницы на самом деле нет. Все, что окружает его, находится только в его сознании, да и сам он, оказывается, не существует нигде:
«Вечное невозвращение.
Принимая разные формы, появляясь, исчезая и меняя лица,
И пиля решетку уже лет, наверное, около семиста
Из семнадцатой образцовой психиатрической больницы
Убегает сумасшедший по фамилии Пустота.
Времени для побега нет, и он про это знает.
Больше того, бежать некуда, и в это некуда нет пути.
Но все это пустяки по сравнению с тем, что того, кто убегает
Нигде и никак не представляется возможным найти.
Можно сказать, что есть процесс пиления решетки,
А можно сказать, что никакого пиления решетки нет.
Поэтому сумасшедший Пустота носит на руке лиловые четки
И никогда не делает вида, что знает хоть один ответ.
Потому что в мире, который имеет свойство деваться непонятно куда,
Лучше ни в чем не клясться, а одновременно говорить
«Нет, нет» и «Да, да» [10 с. 395].
Как мы уже говорили, все содержание романа – это процессы, происходящие в потоке сознания Петра Пустоты. В книге вообще нет ничего, что выходило бы за пределы этого потока. Все внешние объекты и даже психотерапевтические видения других персонажей сумасшедшего дома мы воспринимаем через призму сознания главного героя. И дело не только в том, что рассказ ведется от первого лица. Ведь помимо достижения цели максимально полной идентификации читателя с главным героем, Пелевин следует здесь учению одной из четырех главных школ буддизма, из которой вышел и дзен, и утверждающей, что сознание, вернее его деятельность и есть то единственно реальное, что существует в нашем нереальном мире.
Становится ясным, что главной целью, идеей романа, является попытка, помочь читателю хоть на миг осознать, почувствовать небывалую внутреннюю свободу, скрытую от него его же собственным обыденным сознанием. Вовлеченное в порочный круг отражения внешнего мира в себе, себя во внешнем мире и, в конечном счете – себя в себе, наше сознание строит внутреннюю тюрьму, почему-то называя это жизнью. Освободиться из этой тюрьмы непросто, потому что всегда возникает необходимость выбирать между знакомой безопасностью заключения и пугающей неизвестностью свободы. И на этом распутье наш внутренний агитатор настойчиво и аргументировано подсказывает нужное направление выбора – в сторону большинства. И даже из тех, кто все-таки выбрал свободу, многие инстинктивно продлевают срок заключения, прячась за надуманной неготовностью сделать что-либо прямо сейчас. При этом срок часто становится пожизненным. И здесь небесполезной бывает внешняя помощь в том, чтобы хотя бы эту свободу ощутить.
Становится ясно, что роман о Чапаеве адресован, прежде всего, людям с развитым внутренним миром, напряженная деятельность которого выражается в «так называемой внутренней жизни». Внутренний мир имеет свой центр – это привязанность к себе, к своему Я, которое, как следует из высказывания Чингисхана в эпиграфе, трудно найти в этом потоке. А внутренняя жизнь, таким образом, это некая рефлексивная суета вокруг Я.
Заключение
Таким образом, роман Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» при появлении на свет с интересом встреченный читателями и зачастую враждебно литературной критикой спустя 10 лет доказал, что является ярким и интересным событием в русской литературе.
Кажущаяся пестрота событий в романе, смена пространственно-временных координат, пестрота литературных жанров, используемых в романе – он анекдотов, до притч дзен-буддизма – все это увлекало читателей и пугало литературную критику, которая не знала с какими мерками подходить к анализу романа.
Ценным подспорьем при анализе романа оказывается понимание современной наукой соотношение таких изначальных категорий бытия как «пространство» и «время». В свете последних достижений науки уместно вспомнить при анализе романа, что специальная теория относительности объединила трехмерное пространство и одномерное время в единый четырехмерный пространственно-временной континуум. Это понятие и дает ключ к разгадке тайн романа.
Понятие континуума является одним из вариантов конституирования целостности. Как способ бытия произведения культуры, он самовоспроизводит себя через единство формы и содержания.
В романе Пелевина автором описаны события разных временных и пространственных измерений, но все они оказываются связаны сознанием главного героя романа, и несмотря на кажущуюся пестроту событий, в основе своей имеет один фабульно-тематический узел: это история пути главного героя по дорогам человеческого сознания к постижению «правды» жизни, которая осмысливается автором как восхождение к познанию истины.
Становится ясным, что главной целью, идеей романа, является попытка, помочь читателю хоть на миг осознать, почувствовать небывалую внутреннюю свободу, скрытую от него его же собственным обыденным сознанием. Вовлеченное в порочный круг отражения внешнего мира в себе, себя во внешнем мире и, в конечном счете – себя в себе, наше сознание строит внутреннюю тюрьму, почему-то называя это жизнью.
Автор романа разными способами убеждает читателя в многомерности мира, в отсутствии одного объективно существующего пространства и времени, иными словами транс-временного континуума.
Список использованной литературы
- Архангельский А. Обстоятельства места и времени. // Дружба народов. – 1997. – №5. – стр. 191.
- Баркова Э. В. Пространственно-временной континуум как форма целостности культуры: к постановке проблемы// В диапазоне гуманитарного знания. Сборник к 80-летию профессора М. С. Кагана. Серия «Мыслители», выпуск 4. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
- Басинский П. Из жизни отечественных кактусов / П. Басинский // Лит. газ. – 1996. – 29 мая. – С. 4.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 235.
- Генис А. Беседа десятая: Поле чудес. Виктор Пелевин // Звезда. – 1997. – №12. – стр. 232
- Закуренко А. Искомая пустота. // Литературное обозрение. – 1998. – №3. – стр. 95
- Иванов В. В. Космическая одиссея наступающего тысячелетия. Литературная газета, 2000, №1-2. С. 10.
- Корнев С. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? // Новое литературное обозрение. – 1997. – №28. – стр. 250.
- Кузнецов С. Василий Иванович Чапаев на пути воина. – КоммерсантЪ-daily, 27 июня, 1996
- Пелевин В. «Чапаев и Пустота». М.: Вагриус, 1997.
- Степанян К. Реализм как спасение от снов. Знамя. 1996. – №11. – стр. 195.
- Шилова Н. Л. Традиции жанра видений в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота». //Опубликовано в сб.: Литература в контексте современности: Материалы III Международной научно-методической конференции (Челябинск, 15-16 мая 2007 года). Челябинск, 2007. С. 264-268.
- Шохина В. Чапай, его команда и простодушный ученик// НГ-Ex libris. 2006-10-05
- Ю. В. Пальчик. К структуре современного русского романа («Чапаев и Пустота» В. Пелевина) // Вестник СамГУ (Литературоведение) – 2002 г.